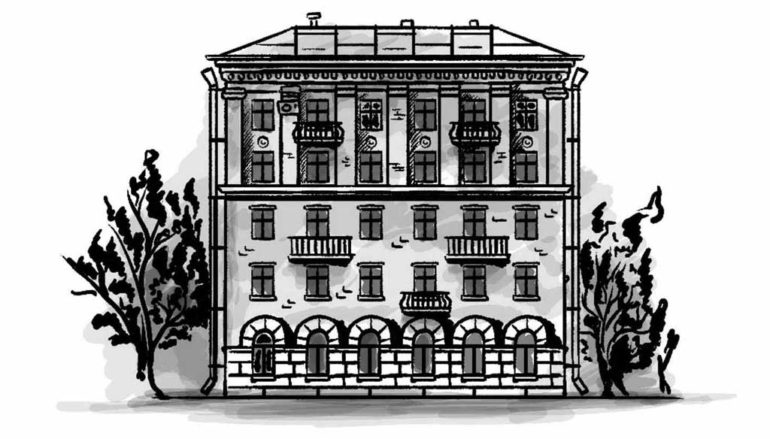
В поисках утраченного ковчега
Этот текст написан Лесей Орловой — известной донецкой журналисткой, которая в начале века переселилась в Москву, где смогла не потеряться и занять свою нишу в непростой столичной жизни. Этот текст — о мире ее детства, о доме на Артема, в котором она жила. Этот текст был опубликован на сайте «Фокус». В нем — один из миллиона донецких миров нашего детства…
Я часто сравниваю подъезд своего детства с Ноевым ковчегом: обитатели двенадцати квартир сейчас кажутся реликтовыми библейскими животными вроде единорога или левиафана. Увы, наш Ноев ковчег постигла судьба «Титаника»: ветхозаветным его пассажирам не было места в безжалостном будущем. С тонущего кораблика спаслись в сущности только я и дядя Саша. Я — потому что попросту выросла и естественно вписалась в новую жизнь. А дядя Саша — потому что изначально опередил своё время, без оглядки спрыгнул с борта и радостно пустился вплавь по волнам.
Сейчас я чувствую себя кем-то вроде повзрослевшего Костика из «Покровских ворот», с тоской глядящего, как дом его юности разбивает гиря строительного крана. От мощных ударов сотрясаются стены, в разрушенной комнате игла старенького патефона падает на пластинку с отбитым краем — и бойкий фокстротик запускает кино.
Нет-нет, дом моего детства стоит, где стоял, война не добралась до центра Донецка. И всё же его больше нет, и довольно давно. Те, кто жили там после нас, знатно поработали перфораторами: разбирали стены, что-то там городили из гипсокартона, упаковывали решётчатые фигурные балконы в белый пластик, сбивали лепнину, опуская потолки… Игла рижской «Ригонды» падает на пластинку фирмы «Мелодия», наводится, как в детской игре, фокус: конец семидесятых и восьмидесятые, планета Земля, государство СССР, город Донецк, улица Артёма, дом 80-а, подъезд №6, стоп. Я, маленькая, бегу с пятого этажа вниз по ступенькам, почти не касаясь перил и задерживаясь на каждой площадке, чтобы поздороваться с обитателями трёх выходящих на неё квартир.
Старая балерина и православный священник, начальница судмедэкспертизы и таинственный алкоголик, директор кукольного театра и горный инженер, продавщица овощного в бриллиантах и спившаяся пианистка, бывшая лагерная надзирательница и классная дама — ровесница века, журналист главной городской газеты и вузовский преподаватель. За каждым — уникальная история, все вместе — срез времени и места, часть истории города, население которого — удивлены? — никогда не ограничивалось «крепкой шахтёрской косточкой». Все они жили в нашем подъезде с «сотворения мира» — с заселения старого «сталинского» дома. Единственным пришлым был дядя Саша.
«Я собираюсь разбогатеть, но не сейчас»
(Д’Артаньян)
Подобно принесённой ветром Мэри Поппинс дядя Саша появился как-то в одночасье и ниоткуда. Он был одет в шикарный кожаный плащ и держал за поводок гигантского чёрного дога Доната. Дядя Саша переехал к жене — тёте Тамаре — и падчерице Иришке. Тогда, на рубеже восьмидесятых, он был молодым, худым, гибким, усатым и джинсовым, глаза его всегда смеялись, а шапка мелко вьющихся чёрных волос с ранней проседью в точности повторяла знаменитую «афру» Анджелы Дэвис. Лет в пять, посмотрев «Трёх мушкетеров», я сразу поняла, что дядя Саша — Д’Артаньян. Обаятельный, начитанный и ироничный, он стал любимцем всего подъезда. В детях души не чаял, и я обожала, скажем, смотреть ноябрьский парад, сидя у него на коленях, или вместе выгуливать огромного, хрипло-басовитого Доната.
Дядя Саша был сыном продавщицы пива, о чём сообщал без малейшего смущения, тем более что мать постаралась дать ему образование. Молодой инженер-«винтик» зарабатывал негусто, но не переживал: у него ведь была «умеющая вертеться» тетя Тамара. В легендарном «сто тридцатом» книжном она дослужилась до заведующей секцией букинистики — это было даже круче отдела подписных изданий. Успешно снимая сливки со своего товара, она заодно пополняла семейную библиотеку. У них были тысячи книг, сплошной дефицит, но никто кроме дяди Саши их по достоинству оценить не мог. Как ни посмотри, союз этот был странноватым. Стильный дядя Саша всё читал и смотрел, обменивался с моими родителями толстыми журналами, обожал «Что? Где? Когда?», а тётя Тамара, старше мужа лет на десять, была уютная высокая и полная тётка с «химией», таскала продуктовые сумки в обеих руках, готовила, вязала, гонялась за модной мебелью и всё время меняла обои на более престижные: то моющиеся, то с узором в виде кирпичной кладки, то в виниловый рельефный квадратик. Её дочка Иришка была из тех «старших девочек», которых обожают все дети во дворе. Она довольно рано вышла замуж, родила дочку и быстро развелась, так что дядя Саша заменил отца ещё и маленькой Альке. И все они, вместе и порознь, часто забегали к тёте Элле, у которой я вообще дневала и ночевала.
«Видала я такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь»
(Королева из «Алисы»)
Входную дверь она не запирала принципиально. Достаточно было просто нажать на ручку и оказаться в безалаберной, неряшливой и странно уютной квартире с продавленным диваном, прожжёнными креслами и сервантом с покосившимися дверцами. Тетя Элла, начальница главной донецкой судмедэкспертизы, была сплошным парадоксом — едкая ирония, редкий интеллект, обширнейшая эрудиция и спор ради спора.
Внешне она походила на добрую Бабу Ягу — с лицом, как у хищной птицы, и собственноручно коротко подстриженными волосами «соль с перцем». К тому же она сильно хромала: при рождении небрежная акушерка повредила ей ногу какими-то тогдашними пыточными щипцами. На одежду внимания не обращала и совершенно не замечала «стрелок» на колготках или мятого платья. Быт её, мягко говоря, заботил мало. Зарабатывала она очень прилично, но ничего не копила — деньги шли на книжки, билеты в театр и путешествия по всему Союзу. А всепоглощающую любовь дарила единственной дочке, лучшей подруге моего детства Светке. Вечерами мы рисовали за большим столом, и тетя Элла, лёжа на диване, читала нам вслух «Великого Моурави» или «Домби и сына». Где-то слонялся, чем-то шурша, Тяпа — самый злющий и подлый кот на свете. Такая ведьминская немножко была квартирка, ещё и с номером 66, чем тетя Элла полушутя гордилась.
Для нашей семьи она была родственницей. С непременным ритуалом кофепития субботним утром. С «десяткой до получки». С уколами, которые при необходимости делала — жутко больно. С рассказами о работе. С обсуждениями книг и фильмов. С совместными походами в кино, на выставки и балет. С распределением, кто какие толстые журналы выпишет. С общими праздниками. И с уровнем доверия, которым не одаривала более никого.
Саркастичная, умная, язвительная, она презирала женские штучки и мещанский трёп и вообще предпочитала мужчин женщинам, делая исключение лишь для нескольких приятельниц. Для мужчин некурящая тетя Элла держала пачку «Космоса» в ящике серванта и морскую раковину в качестве пепельницы. Чего только не было в ящиках: металлический стерилизатор для шприца, игральные карты, театральные программки, пузырёк из-под духов, Светкино свидетельство о рождении и семейные фотографии — ровно три. На одной — её мама, эффектная брюнетка из голливудского фильма тридцатых. На второй — бабушка, просто-таки роскошная красавица, глубокое декольте и чёрно-сизые меха на белых плечах. Тетя Элла, видимо, пошла в отца с третьей фотографии: смазанное лицо, светлый летний костюм и заломленная набок шляпа.
Высокопоставленный чиновник один воспитывал тетю Эллу после ранней смерти мамы. Собственно, он когда-то и руководил строительством нашего дома. Жили обеспеченно, и когда тётя Элла сдала вступительные в Ленинградский мед, отпраздновали это поездкой в Кисловодск. Где во время прогулки по парку папу арестовали на глазах у семнадцатилетней дочери — по какой-то ОБХССной статье. В заключении он и сгинул. Всё имущество, как ни странно, оставили тёте Элле. Она нашла в себе силы блестяще закончить вуз, вернуться на пепелище и начать работать, маясь одиночеством в квартире в центре, битком набитой дорогими вещами. И вокруг неё, некрасивой, умной и истосковавшейся по теплу, немедленно образовалась ушлая компания. На «хазе» ели, пили, занимались сексом, жили — и она была счастлива. Пока однажды не обнаружила себя снова в одиночестве в разграбленной квартире. С тоски весьма уже взрослая, под тридцать, девушка ответила согласием на предложение безликого ничтожества. Родила дочь, свет в окне, солнце жизни, и безжалостно изгнала уже ненужного мужа.
Все теперь было ради Светки, и Светка была — всё. За неё тётя Элла могла убить, считала её всегда правой и ничего для неё не жалела. Как при таком воспитании она вырастила очень хорошего человека — загадка. Но тётя Элла жила по набоковскому принципу: «балуйте ваших детей — вы не знаете, что ждёт их в жизни». И, как оказалось, была совершенно права. А в те безмятежные дни не запиравшие дверей тётя Элла со Светкой преспокойно жили между двумя «нехорошими квартирами».
«Ты право, пьяное чудовище»
(Блок)
Вечерами в квартире под нами алкоголик дядя Серёжа раз за разом крутил пластинку с песней Бернеса про журавлей, и соседи дружно вздыхали. Мама говорила, что когда-то он был очень красив, но я застала его угрюмым, высоким, тощим и сутулым, лысеющим, но при этом с бакенбардами, переходящими в вечную трёхдневную щетину. Ещё страшнее были люди, которые к нему ходили: опустившиеся, краснолицые, пахнущие застарелым перегаром на весь подъезд. Были они в общем неопасными, не шумели, вежливо-смущённо здоровались на лестнице и составляли немаленькую компанию, в которой сосед наш был лидером. Когда тесно сбитой крысиной стаей они куда-то направлялись по бульвару Пушкина, зрелище было жутковатое: дядя Серёжа, на голову возвышавшийся над приятелями, напоминал зловещего Мориарти на вокзале. Он спился на почве больших денег: в прежней жизни был популярным зубным техником, но давно уже не работал. Никогда ни у кого не занимал, но деньги у него почему-то водились. Загадка: если вспомнить, что водка стоила 3,62, да умножить на тридцать дней, выходит, что дяде Серёже требовалось никак не менее девяноста рублей в месяц только на неё, родимую. В квартире его катались по полу десятки пустых бутылок и было чудовищно грязно, как ни старалась прибрать жена. Жён — именно жён, а не подружек — дядя Серёжа менял регулярно, я застала, кажется, четвёртую. Имени её никто не знал, потому что муж именовал её исключительно Пирожком. Кругленького маленького Пирожка дядя Серёжа, похоже, бивал: регулярный грохот в квартире меланхолично объяснял неустойчивостью шкафа, а однажды ночью, когда соседи высыпали на крики его катившейся по лестнице жены, невозмутимо пожал плечами: «Да ничего не случилось. Просто мой Пирожок упал».
Вероятно, дядю Серёжу надо было презирать. Но не получалось. Дело в том, что он был герой — и не единожды. Как-то, когда горел оперный театр по соседству, пьяненький дядя Серёжа просочился мимо пожарных и вынес из огня и дыма бездыханную балерину, отмахнулся от восторгов и убрёл домой. В другой раз ночью он, колеблемый ветром, пересекал пустой сквер перед нашим домом и наткнулся на двух молодых подонков, напавших на девушку. Дядя Серёжа, покачнувшись, промычал что-то протестующее, подонки ему искренне обрадовались и стали было убивать, как вдруг оказалось, что дядя Серёжа — просто Рэмбо какой-то. Он уложил обоих, подъехавшая милиция, по закону жанра, его же, удобного, принялась «винтить», но на защиту бросилась барышня. Далее — по Розенбауму: «Спасённая дрожала, как осиновый лист, и Сёма с чувством долга удалился». Третий героический поступок случился на моих глазах. В пустой квартире этажом ниже котёнок влез на балконные перила и повис на них, скользя когтями. Дети во дворе в ужасе кричали, задрав головы. Тут дядя Серёжа выполз на свой балкон покурить и слабо удивился всеобщей панике. После чего, не выпуская из зубов сигарету, перелез через перила, зацепился ступнями за решётку снаружи, вытянувшись во весь рост до нижнего балкона, — и отцепил котёнка…
К слову, его подвиг однажды повторил дядя Саша. Это было из-за Нельки — обитательницы второй «нехорошей» квартиры. Она жила напротив дяди Серёжи, когда-то была неплохой пианисткой, с чего взялась пить, никто не знал, но только на этой почве она на глазах становилась опасной. Когда забрали сына, она совсем слетела с катушек, назначив почему-то главным врагом дверь дяди Серёжи — то бросалась её рубить топором, а однажды, как безумная жена мистера Рочестера, и вовсе подожгла. Спавший с похмелья дядя Серёжа чуть не задохнулся, а пожар тушили все соседи. Своим кавалерам Нелька по пьяной лавочке бравурно и фальшиво играла «Миллион алых роз» — это, видимо, было прелюдией. А после коды она однажды заснула мертвецким сном, в это время затапливая тётю Тамару с дядей Сашей, как раз накануне переклеивших очередные обои. На звонки и стук не откликалась, и дядя Саша пришёл к нам за бельевой верёвкой. Обвязался, закрепил конец на батарее в подъезде, плюс поставил страховать моего тринадцатилетнего старшего брата. И, как каскадёр, спустился по стене на Нелькин балкон, с пятого этажа на четвёртый. Выбил стекло, перекрыл воду и мимо так и не проснувшихся Нельки с кавалером вышел уже через дверь, навек в тот момент став героем для моего брата.
Женщины ужасней я не встречала никогда. Одно из самых кошмарных воспоминаний — её внезапный визит, когда я была дома одна. С порога насыпав мне в ладошку арахиса в глазури, она плюхнулась за пианино и несколько раз подряд сбацала свой фирменный «Миллион алых роз», вдавливая в пол педаль, как в гоночном болиде, то и дело оглядываясь и ободряюще улыбаясь. Всё это время я стояла навытяжку, сжимая в запотевшей руке слипшийся конфетный ком — даже под страхом смерти я не стала бы это есть. А потом она просто встала, погладила меня по щеке и ушла. Нелька была общей бедой, борьба с которой сплотила всех жильцов — даже тех, кто в обычной жизни симпатичен друг другу не был.
«Как обаятельны (для тех, кто понимает) все наши глупости и мелкие злодейства»
(Окуджава)
Мы бесконечно ходили друг к другу — каждый день. За солью или за хлебом. Попить чаю. Поболтать. Посмотреть «Кинопанораму» или «Вокруг смеха». Но были двери, в которые даже в голову не приходило позвонить. Скажем, к надутым Кауфманам с первого этажа. Большего сноба, чем дядя Дима, директор Донецкого кукольного театра, я не встречала. Внешне он был бы похож на ведущего «Клубкино путешествие» Юрия Сенкевича, если бы не брюзгливая мина с вечно спесиво выдвинутой нижней губой. С соседями он едва здоровался. Неработающая супруга и дочь-мажорка, кажется, купавшиеся в недоступных французских духах, так же глубоко презирали всех вокруг. В их доме было много ковров, люстр с «висюльками», хрустальных ваз, югославской мебели и книг, расставленных по цвету.
Нечего было делать и у Зинки, продавщицы ближайшего овощного «Дары полей», дебелой пергидрольной блондинки с голубыми перламутровыми тенями. На работе Зинка надевала нитяные перчатки с обрезанными пальцами, чтобы доставать из мешков и швырять на весы картошку и лук. Но даже поверх перчаток её руки с облезлым лаком сверкали от дорогущих золотых колец с разноцветными драгоценными камнями — на каждом пальце. Зинка была вылитая Татьяна Доронина, у неё часто менялись ухажёры, ненадолго поселялись, играли на гитаре, хохотали, а она игриво покрикивала в духе «уйди, шалый!».
Совсем чужими были и соседи по нашей площадке с говорящей фамилией Жолобы — и в самом деле какие-то жестяные жлобы. К сожалению, их телефон был запараллелен блокиратором с нашим и приходилось часами ждать, пока главная сплетница и скандалистка двора Надежда Ивановна наговорится с дочкой про «раки по три рубля, но маленькие, но сегодня». Её муж Алексей Иванович — глуховатый и поэтому очень громкий пенсионер, ярый сталинист, бывший когда-то горным инженером высокого ранга, — напоминал, пожалуй, нескладного лысого Квинту из «Ва-Банка». Их древняя бежевая «Победа» всегда стояла у подъезда, надраенная до блеска, и ею страшно гордились, несмотря на присутствие в небедном нашем дворе белых и чёрных «Волг» и жигулей-шестёрок.
Не общались мы и с семейством священника с третьего этажа. Отец Геннадий — маленький, толстый, чернобородый — походил на Адабашьяна в роли Бэрримора. Жена его Маша в вечном платочке — выше батюшки на две головы, дородная, белесая, невидная. Они всегда держались особняком. Но однажды, когда я забыла ключи и сидела на подоконнике, Маша вдруг позвала в гости. Поила чаем с вареньем, вокруг носились дети — отец Геннадий ответственно относился к завету плодиться и размножаться… А несколько лет спустя, уже после переезда на другую квартиру, моя умирающая бабушка, на секунду очнувшись ночью, попросила маму позвать батюшку. Единственным, кого мы знали, был отец Геннадий, и мама побежала по спящему городу к нашему бывшему дому. Ей открыла Маша, муж не вышел. Мама умоляла причастить и соборовать бабушку, и Маша смущённо передала, что он никак не может. Утром служба, надо выспаться.
Такие обычные, типичные и несуразные, они не знали, что были «уходящей натурой»: рыцари-алкоголики, спасавшие прекрасных дам, продавщицы, сознававшие необходимость домашних библиотек, обыватели, приучавшие детей со всеми здороваться, и старые одинокие дамы, сочинявшие себе семью хотя бы из соседей. Тогда ведь не было ток-шоу и сериалов, впрочем, они всё равно не смотрели бы их.
«Старуха! — закричал он в ужасе»
(Пушкин)
Две женщины в нашем подъезде оставляли острое ощущение какой-то неприятной тайны. В квартире №60 обитала отставная прима-балерина Донецкого театра оперы и балета Нина Михайловна Гончарова, замкнутая «пиковая дама» в вечном старомодном летнем пальто и огромном бархатном берете, делившая одиночество с истеричным и злобным крохотным пинчером Тобой. Люди, казалось, были ей глубоко отвратительны, пока однажды она не сломала ногу и не была вынуждена принять заботу моей мамы. И вскоре выяснилось, что Нина Михайловна по-своему способна на странную и неловкую, но любовь. Её пропахшая нафталином квартира с бесчисленными чёрно-белыми фотографиями («А это я в «Баядерке»), этажерками и кабинетным роялем, неудобными жесткими стульями и скудным угощением из кулинарии была для меня чем-то вроде музея забытых вещей.
Совсем другой была Лидия Сергеевна, жившая над Ниной Михайловной. Сморщенное, как печёное яблоко, её лицо всегда лучилось сиропной улыбкой. Поредевшие волосы она укладывала по моде сороковых — два валика надо лбом, похожие на кошачьи ушки. Собственно, она вообще напоминала сладкую и опасную «тётю Кошку» из сказки. Лидия Сергеевна всегда ходила в выцветшем байковом халате и войлочных тапках с задниками — даже на улице. Дом, впрочем, она покидала редко — из-за больных ног могла ходить, только тяжело опираясь на две палки. Покойный её муж был противный демонстративный ветеран, даже в магазин выходивший в пиджаке с орденскими планками, качавший права в очередях и гонявший детей во дворе. Был он очень ухожен, и в их прихожей я впервые в жизни увидела множество пар мужской обуви со специальными распорками на пружинах. Библиотека у Лидии Сергеевны была небольшой и довольно специфической — сплошь старые книги, чуть ли не с «ятями», посвящённые путешествиям: Южная Африка, англо-бурские войны, Пржевальский, а ещё — несколько сборников «На суше и на море». Несмотря на всю приторность Лидии Сергеевны, все мы отчётливо понимали, что откровенничать с ней нельзя. Позже жизнь подтвердила нашу интуитивную правоту.
«Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их»
(Гоголь)
А самыми пожилыми и почтенными были обитатели первой квартиры подъезда. Шева Осиповна (на самом деле — Иосифовна) и Яков Ефимович Кайзерманы, классическая пара неразлучников, под руку прогуливавшихся по бульвару или рядышком сидевших на скамейке во дворе перед большой круглой клумбой. Она — бывшая учительница русского языка и литературы и завуч в знаменитой школе №1. Он — бывший главбух в классических нарукавниках, которого до глубокой старости умоляли помочь в составлении сложных финансовых отчётов. Она — дочь управляющего крупного фарфорового завода до революции (в гостиной висели две разрисованных тарелки, оставшиеся от отца), он — выходец из нищей семьи, в те же годы пешком пришедший в Харьков и поступивший в ученики к сапожнику. Революция их уравняла, обоих сделала атеистами, но от них в нашей семье осталось несколько притч с мудрым раввином в главной роли и рецепты «правильного» свекольника, майонезного печенья, паштета и форшмака. Шева Осиповна никогда не носила халатов — у неё были только домашние платья-сарафаны, надеваемые на блузку с камеей у ворота. Причёска у неё была совершенно дореволюционная — взбитые поредевшие волосы надо лбом и крохотный пучок на макушке, скреплённый костяными шпильками. Прямая спина, плавная походка, сдержанные жесты, интеллигентнейшие интонации… Если не знать, что юность Шевы Осиповны пришлась на годы революции, можно было счесть её классной дамой из старорежимной гимназии.
Кругленький же Яков Ефимович обладал внешностью гораздо более прозаической — венчик седых волос вокруг обширной лысины и нос картошечкой. Их дети — сами уже бабушка и дедушка — постоянно бывали в доме. Александр Яковлевич — ну вы ведь помните, что «евреи не воевали, а в эвакуации отсиживались»? — прошёл всю войну, дослужившись от рядового до полковника. Дочь Шелли Яковлевна преподавала русский и литературу. До сих пор помню запах печенья в старомодной уютной квартире, старинные буфеты, круглый стол, покрытый «ковровой» скатертью. А с их прихожей пошла специфическая мода нашего подъезда — каждое семейство превратило прихожую в мини-гостиную с непременным журнальным столиком и креслами. К этой паре все без исключения относились с особым пиететом, а моя семья — как к старшим родственникам. Помня все наши семейные даты, на четырнадцатую годовщину свадьбы они подарили моим папе и маме (тем самым журналисту и преподавателю) два изящных фужера. В новогоднюю ночь на 1983 год родители выпили из них шампанского в первый и последний раз, а вскоре один разбился.
«Когда друзьям я прокричал, что на прощание кричат, как будто сам себе я прокричал всё это»
(Окуджава)
Так вышло, что именно дядя Саша утром 5 марта 1983 года первым услышал крик моей мамы, в беспомощном отчаянии выбежавшей на площадку, и ринулся к нам, прыгая через три ступеньки, и принялся неумело делать массаж моему умирающему от инфаркта сорокалетнему папе. И именно дядя Саша, на секунду обернувшись, встретился взглядом со мной, семилетней, тихонько забившейся под пианино. И уже через пять минут я была в их квартире, уткнувшись лицом в уютный Иришкин халат, и Донат успокаивающе ворчал в своей кладовке. Иришка вдруг подняла голову, прислушиваясь, и сама себе кивнула: «Понесли». Я понятия не имела, что в эти минуты вместе с папой на носилках уносили моё безмятежное детство.
А спустя сорок дней дверь в нашей квартире не закрывалась, в неё всё время кто-то входил, и одни соседи впервые сидели за нашим большим столом в гостиной, а другие просто улучали минутку, чтобы, неловко потоптавшись в прихожей, сказать маме какие-то слова и растерянно потрепать нас с братом по головам. Пожалуй, то был первый и единственный случай, когда разнородная наша подъездная коммуна и вправду ощущалась как семья.
«Меру окончательной расплаты каждый выбирает по себе»
(Левитанский)
А вскоре Ноев ковчег стал тонуть. Первой умерла Шева Осиповна, через год ушёл за ней истосковавшийся Яков Ефимович. Следом угасла Нина Михайловна. Вместе с ними закончилось время интеллигентных пожилых дам и джентльменов с прямыми спинами, чинно гулявших по бульвару с собачками и без, сидевших на скамейках за степенной беседой и церемонно раскланивавшихся при встрече.
Следующим («и их осталось восемь») умер от неизбежного цирроза дядя Серёжа, а его верный Пирожок как-то вдруг просто испарился. «Крысиная стая», лишившись предводителя, больше никогда не наведывалась в наш дом. Зато в арке появились первые разбитые ампулы и шприцы.
Свезли в психушку на «Победу» окончательно свихнувшуюся Нельку — навсегда. Потом умерла Лидия Сергеевна, и тут выяснилось, что приторная и сдобная «тетя Кошка» в прошлом трудилась в лагерной энкавэдэшной системе, стартовав с почётной должности надзирательницы и дослужившись до немаленьких погон. Хоронили её в кителе со специфическими наградами, вроде нагрудного знака «Почётного работника ВЧК-ГПУ».
Умер и дядя Дима Кауфман, а вскоре его яркая, словно из фильмов Альмодовара, дочка с головой нырнула в какую-то псевдохристианскую секту из тех, что в изобилии наводнили тогда Донецк, и втянула за собой старую растерянную мать. Они ударились в радикальную аскезу, и с постными блеклыми лицами, в чёрных косынках и бесформенных длинных платьях уже ничем не напоминали о временах былого благополучия, а потом продали квартиру в пользу своей секты и исчезли.
Переехали на другую квартиру мы, испытывая чувство, вероятно, характерное для эмиграции за океан. И всё же в подъезд можно было вернуться, в гости к тёте Элле или к тёте Тамаре. Жалко только, дяди Саши там уже не было.
Так вышло, что мы с мамой раньше всех знали, что он исчезнет. Как-то в только открывшемся первом кафе-кондитерской «Шоколадница» за столик рядом с нами уселся дядя Саша в компании невзрачной робкой девицы, нежно воркуя и чуть ли не с ложечки кормя её мороженым, пока случайно не заметил нас. Его лицо исказил настоящий ужас, и мама милосердно отвернулась, отвлекая меня разговором. А вскоре дядя Саша из семьи ушёл — и в их квартире будто свет погас. Донат остался, тосковал ужасно, и тётя Тамара, мгновенно резко постаревшая и утратившая былую деятельную предприимчивость, кажется, с трудом удерживалась, чтобы не подвывать скулящему растерянному псу.
В наш подъезд уже нельзя было войти так просто. Старые толстые двери со стёклами заменили железными, с замками, ключи от которых были только у жильцов. А вместо деревянных красных или обитых наивным дерматином дверей на площадках были теперь металлические крепостные ворота. И — чужие за ними. Последней умерла тётя Элла, Светка продала квартиру — и больше в моём подъезде мне бывать уже не доводилось. Впрочем, я могла приходить в свой старый двор. И видеть, как там всё изменилось. Это уже не ковчег, тут затонула целая Атлантида. В комнатах наших сидели «новые донецкие», и девочек наших вели в кабинет. Там, где раньше жили легенды футбола Виталий Старухин и Юрий Дегтярев, главреж оперного Евгений Кушаков и великий скрипач Давид Шейнин, учёные, врачи, артисты и преподаватели, теперь повсюду установили шлагбаумы, вырубили тенистые деревья, заасфальтировали парковки на месте беседок и клумб. Первое, что делали новые хозяева дома, двора и города, — запирались и огораживали завоёванное. Даже огромную арку законопатили с обеих сторон и превратили в дорогущий бутик, и я ни разу в него не зашла, потому что казалось, там всё должно пропахнуть сыростью, мочой и папиросным дымом — запахом, унаследованным от сумрачной и даже в жару прохладной арки моего детства.
«Вы сделали то, что должны были сделать, Д’Артаньян, но, быть может, вы сделали ошибку»
(Атос)
Нас оставалось только двое. Я и дядя Саша. Лет в пятнадцать я пошла на языковые курсы подтягивать английский. И там моими соучениками внезапно оказались дядя Саша с новой женой — той самой невзрачной застенчивой девицей. На этот раз при встрече он в ужас не пришёл, а, напротив, обрадовался. Расспрашивал о маме и брате и искренне предлагал обращаться за помощью в любой момент. Он был в состоянии её оказать: в девяностые дядя Саша не пропал, а переквалифицировался в бизнесмены и возглавил крупную страховую компанию. Прежнюю семью он всячески поддерживал — давал деньги тёте Тамаре (её легендарный магазин, занимавший первый этаж большого дома, теперь скукожился до крошечного закутка, потеснённый польскими продуктами и турецкими платьями), устраивал Иришку на работу и баловал растущую внучку. Время шло, он поседел и коротко стриг свои африканские волосы, построил высотную офисную башню для своей компании, позже пустившей ниточки по всей стране, кому-нибудь что-нибудь вручал в смокинге и «бабочке», мелькал в телевизоре. И всякий раз, увидев его или услышав о нём, я чувствовала мгновенное тепло на сердце: это же дядя Саша, наш Д’Артаньян. Пусть даже он теперь владелец заводов, пароходов и газет, включая ту, куда я через несколько лет пришла работать.
К тому времени для дяди Саши, как для купцов из Островского, невозможного было мало. В нём появилась особая ленивая вальяжность, сытый лоск и снисходительность интонаций. И всё же он по-прежнему был родной. Ну ладно, пусть родственный. Настолько, что попросил меня написать о любительском театре, которому всю душу отдаёт его жена.
Она заехала за мной на юркой спортивной машине — красной, конечно. От былой бесцветной скромницы ничего не осталось. Теперь это была очень уверенная в себе брюнетка, с двумя детьми под присмотром гувернанток и с непременным мольбертом в непременной студии в мансарде непременного замка на Демьяна Бедного (воплощая в жизнь им самим неочевидный забавный оксюморон, богатейшие люди Донецка тогда селились именно на улице Демьяна Бедного). Театром она занималась в теснейшем сотрудничестве с режиссёром, откровенно меня напугавшим, — смазливым сектантом карикатурно демонической внешности. Они бредили эзотерикой, боготворили Гурджиева с Блаватской, труппу набрали из десятка прыщавых юнцов в белых длинных рубахах, а репетиции являли собой гремучую смесь пластических импровизаций с любительскими медитациями. Жена дяди Саши хвостиком ходила за гуру, они постоянно прикасались друг к другу и хихикали им одним понятным шуткам. И все эти творческие поиски, белые рубахи, аренда ДК и обмен жгучими взорами оплачивались дяди Сашиными деньгами. Всё было ясно. Семилетняя девочка, потерявшая папу, ожила во мне и прижалась к высокому худому кудлатому Д’Артаньяну, сочувственно сопя в ухо.
А через пару дней дядя Саша мне позвонил и весело сообщил, что сейчас плавает на яхте и в следующий раз непременно меня тоже возьмёт. Я смущенно залепетала: «Да ладно, дядя Саша, какая яхта, у меня ёлки». А он прервал, хохотнув: «Эй, какой я тебе дядя?! Нашла дядю! Зови меня Саша и на «ты». Ну? Скажи: Са-ша!»
Он ещё что-то говорил, но я, разом поняв, не очень слушала — все звуки перекрыл протяжный скрип разболтанной пружины: закрывалась подъездная дверь в моё детство. Потому что оказалось, что с затонувшего Ноева ковчега спаслась только я.
Ещё статьи из этой рубрики
Комментарии
Написать комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.




